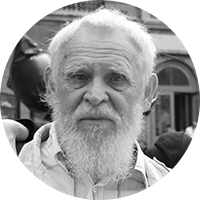Театр танца «ИНТЕЛЛБАЛЕТ» был основан хореографом Ларисой Ивановой и художником по костюмам Инной Семеновой в 2000 году в Санкт-Петербурге. Название «ИНТЕЛЛБАЛЕТ» возникло из соединения слов интеллектуальный и балет. Хореограф театра Лариса Иванова окончила балетмейстерское отделение Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакого. Художник по костюмам театра Инна Семенова окончила факультет архитектуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской академии художеств. Театр участвовал в Санкт-Петербургском фестивале балета «Летящий во времени», который проходил под руководством Заслуженного артиста России Владимира Аджамова в 2002 году. В 2006 году, состоялась премьера балета «Куклы, Цветы и Мятая бумага», поставленного по мотивам живописи известного Петербургского художника Игоря Иванова. Главные партии исполняли солист Большого театра Андрей Меркурьев и солистка Мариинского театра Екатерина Кондаурова. Балет «Паруса» лауреат III Всероссийского фестиваля- конкурса «Альтернатива», в номинации хореографическое искусство. По его результатам хореограф Лариса Иванова и художник по костюмам Инна Семенова получили приглашение поставить одноактный балет в Санкт-Петербургском государственном театре балета им. Л.Якобсона. Премьера балета " 2012″ состоялась в 2011 году на сцене театра «Балтийский Дом». Балет «Листья» был поставлен по предложению художника Михаила Шемякина , по мотивам его произведений, к открытию его выставки «Тротуары Парижа» в Мраморном Дворце Русского Музея, в 2013году. Костюмы сделаны по эскизам Михаила Шемякина. Премьера программы «Танец и Живопись» состоялась в декабре 2013 года на сцене Драматического театра «На Литейном»
Художник Игорь Иванов
 www.artistivanov.ru
www.artistivanov.ru
Игорь Васильевич Иванов — один из наиболее серьезных, самоуглубленных, содержательных живописцев Санкт-Петербурга. Родился в Ленинграде в 1934 году. Закончил в 1957 году Государственный институт киноинженеров. Посещал класс Академического рисунка в Академии художеств им. Репина. В 1958 году начинает посещать художественную студию Дома Культуры им. Капранова, которой руководил ученик, выдающегося живописца А. Осьмеркина О. Сидлин. Постоянно работает с натуры в длительных путешествиях: Псковская и Вологодская области, Карпаты, Крым, Северный Кавказ, Киев, Самарканд. В 1964 году путешествует и работает в Армении. Посещает мастерские Сарьяна и Кочара в Ереване.
Игорь Иванов — один из организаторов исторических выставок Ленинградских нонконформистов в Д.К. Газа в 1974 году и Д.К. Невский в 1975 году. Принимал активное участие в создании Товарищества Экспериментальных выставок (ТЭВ). В его творческой биографии большое число отечественных и зарубежных официальных выставок. В 1989 году участвует в выставке русских художников- Елисейские поля (г.Париж). Известный коллекционер Э.Басмаджан приобретает в свою коллекцию шесть холстов и шесть акварелей.
Произведения Игоря Иванова находятся в Государственном Русском Музее, Музее истории Санкт-Петербурга, в собрании Центрального выставочного зала «Манеж», в музее искусства нонконформизма, в Государственной Третьяковской галереи в Москве, в музее Зимерли (Датгеровского университета; Нью-Джерси, США), а так же в многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.
2000 год. Персональная выставка. Государственный Русский музей (Мраморный Дворец, 72 произведения).
2001 год. Выставка «Петербург- Москва, Москва- Петербург». Государственная Третьяковская Галерея.
2003 год. Выставка «Авангард на Неве» Государственная Третьяковская Галерея.
2005 год. Персональная выставка. Центральный Дом художника в Москве.
2005 год. «Поиск истины. Судьба и искусство» Персональная выставка. Выставочный зал Княжества Монако.
Куклы
«Кукольный мир грань, колебание между живым и не живым, между мнимым и действительным существованием. Однако в своем самовыражении кукла постоянно находится в состоянии «тихого экстаза».
Цветы
«При работе с натурой вступает в свои полные и безраздельные права Самодержавие Живописи. Холст ставится на мольберт под открытым небом. И на холсте выявляется жизненная сила больших черных и белых пионов, влажно расцветших в ночи; в высшей степени эротичных черно- фиолетовых ирисов с прозрачно пульсирующей раковиной белого венчика.»
Мятая бумага
«Постоянный сюжет, связанный с органическим желанием стабилизировать рефлекс- текущий, изменчивый, колеблющийся. Сочетаясь с цветотональным ритмом через систему скрытого орнамента, рефлекс получает опору. На холсте мятая бумага развертывается внутрь себя.»
Зимний пейзаж
«Были времена, когда увлекался почти сумеречным холодным светом, с густыми тенями, нечто высвечивающими из глубины холста. Ткань живописи обогащается средой сгущенных рефлексов, формализованных через чувственное восприятие энергии гаснущего зимнего света. Нашей петербургской поздней осенью и в начале зимы, с утра и весь день подступают сумерки, и как стемнело, то сразу ночь. Но какая тьма сияет! В декабре в деревне в полдень солнце скребется по кустам, излучаясь холодным оранжевым блеском. Обездвиженная природа тяжела, рефлексы мокры и насыщенны. Чем глубже пространственная тень, тем больше там подразумеваются скрытые возможности».




























![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-01.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-02.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-03.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-04.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-05.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-06.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-07.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-08.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-09.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-10.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-11.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-13.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-14.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Вторая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb2-15.png)

















































































![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-01.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-02.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-03.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-04.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-05.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-06.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-07.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-08.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-09.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-10.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-11.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-12.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-13.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-14.png)
![Куклы, цветы и мятая бумага [Первая редакция]](photos/thumbnails/ktsmb1-15.png)